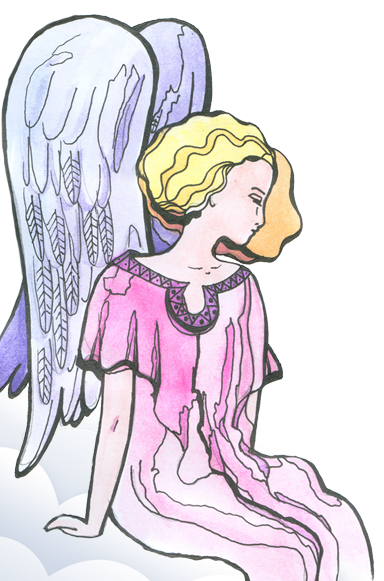Я помню эти истории с детства. Они въелись в мою память, осели в подсознании. Мне кажется, все это было со мной…
Я ползу. По обугленной пропитанной кровью земле. Мимо бездыханных тел, которые еще вчера были моими товарищами. Я ползу. Прижимая искореженную осколком снаряда руку, волоча прошитую пулями ногу. Отплевываясь от горьковатой грязи. Боль разрывает сознание. Кажется, что болит и кричит все тело. Но мне нельзя кричать. Нельзя стонать. Стоп! Замри.
Идут. Я слышу их. Смеются, горланят о чем-то на своем, немецком. Фрицы!
Не двигаться. Не дышать. Слиться с трупами. Я – труп. Меня – нет.
Останавливаются. Совсем рядом. Краем глаза замечаю черный высокий сапог. Сердце замирает. Меня нет! Здесь нет живых. Вся рота – вот она, вокруг, все – бездыханные. И я – тоже.
Удаляются. Пронесло! Но спешить нельзя. Надо дождаться ночи. Ночью легче, темнота поможет, скроет. Дождаться ночи – и ползти. Ползти вперед, сколько хватит сил. К нашим…
Я знаю, что доползу. К рассвету. И от этого мне легче. Я знаю, что буду долго лежать в госпитале, где и встречу конец войны. Знаю, что руку мне не ампутируют – не дам! Почти два месяца я буду добираться до дома: поездами, попутками, пешком. Меня встретят поседевший отец и ослепшая от горя мать. Встретят через 4 месяца после моих похорон. Похоронка придет в апреле, а я вернусь в августе. Меня никто не будет ждать. Как и моего старшего брата. А я вернусь…
Я все это знаю, наперед. И мне легко ползти.
А дедушка – он не знал. Он просто полз, из последних сил. Холодной апрельской ночью 1945-го, под Кенигсбергом. Полз вперед, чтобы выжить. Чтобы на свет могла появиться моя мама, ее сестра и братья. Чтобы мог появиться я. Чтобы однажды он мог посадить меня на колени и рассказать о тех страшных днях. Чтобы мы все помнили – и жили. Мечтали, строили планы, любили. Под мирным небом.
Я слушал всегда его рассказы – как завороженный. Я был еще мал и глуп, чтобы осознать весь ужас этих историй. Мне он казался древним витязем в блистающих доспехах, когда на День Победы надевал свой парадный костюм, сияющий бесчисленными медалями и орденами. О каждой медали, даже самой незначительной, он мог рассказывать часами. А я готов был слушать часами истории, которые знал наизусть. И снова, в который раз, просил его:
– Деда, а расскажи про бомбу, которая упала рядом с тобой и не взорвалась! Или про шинель, которая была вся в дырках от пуль, а на тебе не было ни царапины! Тебя ведь называли везунчиком, правда?
Лишь много лет спустя я начал понимать, почему не взорвалась бомба, упавшая в тот самый окоп, где лежал дедушка. Почему из яростных атак он каким-то чудом выходил живым, порой с изрешечённой шинелью. Почему вернулся даже после того, как его похоронили…
Все 4 страшных военных года в далекой от фронта деревеньке в одном из домов каждую ночь до утра не гас огонек свечи. И порой случайный прохожий мог заметить, украдкой заглянув в маленькое оконце, как в этом домике пред ветхой иконкой на коленях стоял рано поседевший сгорбленный человек. Это был отец деда, мой прадед…
Но не все я мог понять, даже спустя много лет. Меня всегда поражала жизнерадостность, доброта, юмор дедушки. Даже в преклонном возрасте, когда старые раны все чаще отзывались в теле новыми болезнями, он находил силы поддержать добрым словом и шуткой близких людей, часто загруженных бытовыми проблемами. А ведь он как никто другой знал, насколько ничтожны наши проблемы – в сравнении с тем, через что ему пришлось пройти! Как можно сохранить доброту, сердечность, жизнерадостность, пройдя через такой ад? Смог бы я на его месте сохранить в себе человечность и неравнодушие, каждый день встречаясь со смертью и нечеловеческой жестокостью, беспощадностью? Я спрашивал себя об этом – и не находил ответа. Но дедушку почему-то спросить не решался.
А вот о другом я его как-то раз все же спросил. В последние годы он часто подолгу смотрелся в зеркало. И я гадал, что он ищет в своем отражении. Пока наконец не спросил об этом. Немного помолчав, дедушка ответил:
– На фронте говорили, что ее тень можно заметить на лице, когда она приближается.
– Тень смерти? Дедушка, ты боишься ее?
Дед улыбнулся:
– Чего же ее теперь-то бояться? Просто жду. Как старую знакомую. Давно не виделись.
– А тогда, на войне… боялся?
Дедушка не ответил. И я понял, как глуп мой вопрос. Ведь я знал ответ. Ведь все это было как будто со мной…
Предрассветная холодная мгла, рассеченная искрами сигнальных ракет и огненными штрихами пулеметных очередей. Судорожно сжимая автомат, в холодном поту я поднимаюсь из окопа, вместе с сотнями других бойцов. И в отчаянном безумном крике «Ура!» бросаю себя навстречу смерти…
Это надо забыть, отпустить. Война давно закончена. Она осталась в прошлом веке. В прошлом тысячелетии. Когда-нибудь я забуду эти страшные истории. Когда-нибудь мы все их забудем, нам сложно будет вообще понять, как люди могли убивать друг друга. Когда-нибудь…
Но не сейчас. Пока еще где-то на Земле тысячи чудовищных ракет смотрят в небо, готовые сорваться в любой момент на спящие города и стереть их с лица земли, пока еще люди способны брать в руки оружие и убивать, – я буду помнить страшные рассказы деда. Я должен передать их другим.
И вновь приходят они ко мне в беспокойных ночных сновидениях. И чудится мне, что война все еще продолжается. Незримо. Масштабно. Изощренно. И чудится мне, что я продолжаю ползти по обугленному полю. Искалеченный в нескончаемых боях за человеческие души, из последних сил цепляясь за ускользающую надежду, я все еще ползу в кромешной тьме бездуховности – к своему рассвету.