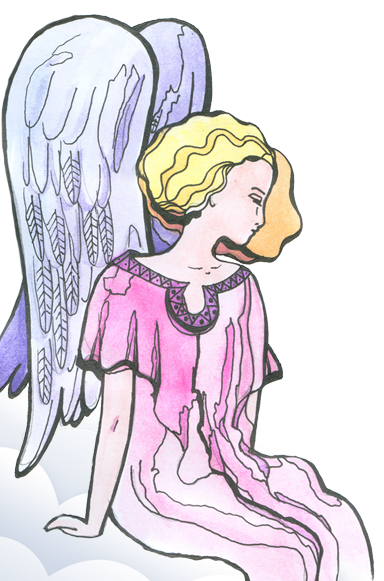Небо было подёрнуто тонкой облачной пеленой, как это часто и бывает тёплыми сентябрьскими ночами. Но звёзды всё равно хорошо просматривались, даже без очков. Прищурившись, я вглядывался в знакомые с детства звёздные контуры, вспоминая их названия и связанные с ними легенды. Облачная пелена меня слегка расстраивала. Но радовал Юпитер, яркой искрящейся капелькой блиставший на Юге. И Луна, нависшая над Землёй большой круглой лампой, как всегда, притягивала взор своей тревожной таинственностью. «Большая небесная лампочка…» — вспомнил я стихи Насти. И подумал, что всё не так уж плохо: хотя бы на Луну посмотрим, и на Юпитер. Несмотря на пелену, ночное небо всё равно было прекрасным, и также манило, и тревожило необъяснимой таинственностью, как когда-то в детстве…
Сколько мне тогда было лет? Семь? Да, точно семь. Я до сих пор помню тот вечер, когда мы с Димкой (даже его имя помню!), тайком сбежав из скучной больничной палаты, с размаху влетели в большой сугроб на заднем дворе поликлиники. Мы часто с ним убегали с тихого часа и катались по длинным техническим коридорам, где в это время обычно никого не было. Но в тот раз нас понесло ещё дальше — на волю, за ненавистные белые стены, пропахшие лекарствами, тоской, болью. А за стенами была удивительно красивая, пушистая зима. Такая же белая, но без лекарств, без тоски. Чистая, свежая. С чёрным бездонным небом, искрящимся множеством крохотных огоньков. Димка сразу задрал голову: «Смотри, Большая медведица!» Я ошарашенно уставился на небо, пытаясь сообразить, как там могла оказаться какая-то медведица. Но Димка, кажется, сразу понял меня и рассмеялся: «Это же созвездие такое! Вон, видишь: семь ярких звёзд, похожих на ковш». Он был чуть старше, на год или два. И ходил, бегал даже. А я, после операций, с неуклюжими гипсами на соломенных ногах, — с трудом пересаживался даже на коляску. Почему он возился со мной? Катал по коридорам, увозя от скуки бесконечных «тихих часов»? Рассказывал обо всём? Не знаю. Я тогда и не думал об этом. Особенно в тот миг. Задрав голову и разинув рот, я впервые смотрел на звёзды — заворожённо. Впервые видел в них какую-то сказку, загадку. И уже не было ни больницы, ни коляски, ни гипсов. Была лишь бездонная звёздная бездна, и ощущение полёта — навстречу тайне…
Да, мне тогда было семь. И звёзд было семь — в ковше «Большой медведицы». И той, которой мне сейчас так хотелось подарить всю эту звёздную сказку — тоже семь.
Боже мой, как всё это странно! Столько совпадений. Столько непонятностей. И что мне теперь со всем этим делать?..
— Дядя Серёжа, а он вовсе не такой тяжёлый, каким казался! — прервал мои раздумья звонкий Никин голос. Я невольно улыбнулся: телескоп на длинном треножнике оказался выше Ники. Но она ловко перенесла его через порог и вынесла на балкон.
— Ставь сюда, Ника, посредине. Сейчас мы его будем нацеливать…
— На звёзды! — подпрыгнула от радости Ника, и мне показалось, что её звонкий голосок разнёсся по всем этажам дома.
— На звёзды — тоже. Но сначала мы попробуем поймать Луну.
— Поймать? Разве она куда-то убегает? — глаза у Ники так смешно и удивлённо округлились, что я опять невольно улыбнулся.
— Ещё как убегает! Но от нас она всё равно не убежит, я ведь её уже не раз ловил.
Эх, только вот когда это было в последний раз? В прошлом году? Когда ещё была мама…
В детстве это была моя заветная мечта: взглянуть на звёзды — в телескоп. Хоть разочек, хоть краешком глаза! Но осуществиться она могла в те годы — лишь во сне. Мне часто снились звёзды в окуляре огромного телескопа. Удивительно яркие. Незнакомые. Нездешние… А в реальности — мы с мамой два года копили средства из её скудной зарплаты и моей ещё более смешной пенсии, чтобы купить бинокль. Большой, тяжёлый, 20-кратный. Когда я его впервые увидел и узнал, что такое чудо можно купить за 80 р., то весь извёлся: «Мам, если у меня не будет такого бинокля, я не смогу жить!» И через два года томительного ожидания я впервые с замиранием взглянул на звёзды через оптический прибор… С тех пор быстротечные ночи летних каникул я до самого рассвета проводил на балконе. Бинокль был тяжёлым, я с трудом удерживал его в руках, звёзды в окуляре дрожали и прыгали, а я чуть ли не плакал от досады. Но вскоре я научился смотреть лёжа на спине: если положить бинокль на глаза, то его не нужно было удерживать, и звёзды уже не прыгали, их можно было разглядеть! И я с жадностью вглядывался в далёкие неведомые миры, покуда небо не начинало бледнеть от приближающегося рассвета. Под утро глазницы, натёртые оправой окуляров, начинали болеть, я ходил с синяками вокруг глаз. Но как только наступала ночь, и загорались звёзды, я вновь устремлял взоры к далёким небесным светилам… Думал ли я тогда, что спустя лишь немногим более 10 лет у меня появится настоящий телескоп? И что так изменится моя жизнь? И что так скоро останусь без мамы… Но об этом лучше не думать, не надо.
Стараясь отогнать грустные мысли, я раздвинул балконную раму, «зарядил» телескоп 20-милимметровым окуляром, дававшим меньшее увеличение, и принялся наводить трубу на бледно-жёлтый диск Луны. Пальцы почему-то не слушались — почти как в первый раз. Тогда у меня ещё не было опыта обращения с таким прибором, я спешил и волновался: вот-вот осуществится моя детская мечта! А сейчас…
Сейчас рядом прыгала от нетерпения маленькая Ника. Как всегда, она не могла сидеть на месте. Даже когда смотрела свои любимые мультики. И я не переставал удивляться, сколько же энергии и неутомимости в этом маленьком человечке.
— Дядя Серёжа, смотрите: я свечу фонариком прямо на Луну! Интересно, лунные человечки видят мой фонарик? А в телескоп — видно лунных человечков?.. Дядя Серёжа, давайте я вам помогу! Что надо крутить? Ну, дядя Серёжа, давайте вместе!
Вместе с Никой мы быстро поймали яркий лунный диск, и я закрепил регулировочные винты.
— Ух ты!.. — не могла оторваться от окуляра Ника. — Я и не думала, что Луна — такая! Она же вся… будто в крапинках! Что это за крапинки?
— Сейчас я поставлю другой окуляр, Луна станет в два раза больше, и мы рассмотрим их получше.
— Мама, мама, мы Луну поймали! Иди скорее сюда! Сейчас дядя Серёжа сделает Луну ещё в два раза больше! — звонкий голос Ники нёсся с балкона, казалось, в самые небеса. Но Вера в этот момент смотрела телевизор, где шла заинтересовавшая её передача.
— Мама тоже посмотрит на Луну, но чуть попозже. А пока давай-ка мы поменяем окуляр. Вот так…
Ника снова прильнула к телескопу. Замерла…
— Дядя Серёжа, это же какие-то вмятинки. Вся Луна — во вмятинках! Будто в неё кидали камушками… Щербатая Луна, ну надо же!
Я даже не удивился. Уже начал привыкать. Хотя поначалу поражался: откуда она такие слова знает, в её-то 7 лет! Порой такое скажет — просто не знаешь, что и думать; далеко не всякий взрослый догадается так сказать. Что-то в ней было — не свойственное её возрасту. И в то же время — совсем ребёнок.
— Так и есть, Ника: это вмятины от небесных камней, которые падали на Луну. И называются эти вмятины «кратеры».
— Небесные камни? Они что, с неба падают?
— Да, с неба. Из небесного, космического пространства. Там же много всяких камней и даже глыб, от крохотных до огроменных.
— А почему они тогда на Землю не падают? На Земле же нет этих… катеров.
— Кр-р-ратеров, Ника, — постарался выговорить я свою нелюбимую букву. — На Земле тоже есть кратеры. Просто они почти все заросли. Ведь Земля — живая, она постоянно меняется, на ней всё быстро зарастает. А Луна — мёртвая планета, и на ней почти ничего не меняется.
— Луна — мёртвая? — Ника прямо испугалась. — Значит, на ней нет никаких человечков?
— Увы, нет. Во всяком случае, их никто не видел.
Ника снова прильнула к окуляру телескопа, и долго разглядывала что-то. Я догадался: человечков ищет.
— Правда, не видно, — грустно вздохнула она наконец. — А может, просто спрятались где-нибудь?
— Может. Стесняются, не хотят, чтобы их разглядывали, — пошутил я. Ника тоже улыбнулась.
— Ладно, я не буду их разглядывать, я только Луну... Дядя Серёжа, а вон те тёмные места — это что? А вон там, по краям, какие-то зубчики.
— Зубчики — это лунные горы. А тёмные места — лунные моря.
— На Луне есть моря?
— Ну, это не совсем моря, Ника, там нет воды. Они просто так называются: морями, потому что похожи на высохшие моря.
— А вон там такой большой кратер! И пониже — ещё. Ух ты, какой большой камень, наверное, туда бухнулся!.. Дядя Серёжа, так значит, эти небесные камни и на Землю падают? А почему же мы их не видим?
— Видим, Ника. И ты тоже, наверное, видела.
— Как это?
— Ты же видела, как падают звёзды?
— Да! Так быстро — вжик! Даже желание не успеешь загадать.
— Вот это и есть небесные камешки: метеоры. Они летят так быстро, что когда влетают в воздушный слой нашей планеты, то тут же загораются от трения, — и быстро сгорают прямо в воздухе, не успевая долететь до земли. Долетают редко-редко, таких даже трудно найти… Представляешь: получается, Земля нас защищает! А на Луне нет воздуха, который защитил бы её.
— А как же звёзды? Разве они не падают?
— Они никак не могут упасть, Ника. Потому что они очень-очень далеко. Дальше Солнца и всех планет, которые вращаются вокруг Солнца. И они очень большие, в тысячи раз больше любой планеты. И очень ярко горят, пылают, освещая весь мир! Солнце — тоже звезда. Самая близкая к нам.
Я ожидал очередной порции удивления. Но Ника почему-то притихла. Смотрела куда-то вдаль, в темноту. И вдруг вздохнула:
— Жалко. Что звёзды не падают.
— Почему жалко?
— Ну… значит, желания зря загадывают.
Вот оно что…
— Может, и не зря, Никуля, — чуть помолчав, сказал я. — Я вот загадывал, и у меня — сбылось. Надо только загадывать самое-самое заветное желание. И не один раз.
— А сколько? — в её голосе мне послышались слезинки.
— Не знаю. Может, до тех пор, пока не сбудется.
Ника не ответила. Только посмотрела на небо. Словно надеясь увидеть падающую звезду. И мне почему-то тоже стало жалко, что звёзды не падают…
Какое же заветное желание она просит у звёзд? — думал я. Но никак не мог спросить. Только почему-то вспомнил рассказ Веры, как недавно перед днём рождения Ники она спросила, что ей подарить, какую игрушку или куклу. А Ника, до этого просившая Барби, вдруг ответила: «Подари мне… папу».
Ника никогда не видела своего папу. Он ушёл от них ещё до её рождения.
А я… Я хорошо помню папу. Но эти воспоминания — настолько горьки, что иногда думается: лучше бы не помнил. Лучше вообще без папы, чем — с таким… Но воспоминания всё равно не вытравишь из памяти. И сейчас я уже понимаю: они мне нужны. Пусть даже такие, горькие. Пусть даже такой — папа. Но и он меня чему-то научил, был мне дорог — в те немногие моменты, когда был трезвый. Я помню, как он гулял со мной, как катал на велосипеде, на санках. На плечах. И как это было здорово! И как я боялся, что он снова придёт — другим. И тогда опять: горький дым папирос, противный запах водки. Злые, холодные, бездушные глаза. Ссоры, скандалы. Война!
Мы с мамой жили в постоянном страхе этой войны. Самой мерзкой из всех войн на земле. Потому что это — война между самыми близкими людьми на земле! И никто от неё не защитит, никто не спасёт… Меня сжимало и скручивало — от страха, боли, беспомощности. Словно мышонок, я забивался под кровать, затыкал уши, не в силах видеть и слышать происходящее. И лишь одно меня спасало, лишь одна мысль. Я непременно вырасту, стану большим, сильным, справедливым — и тогда непременно отомщу за маму! За каждое слово, за каждую боль, причинённую ей. Я никогда не буду пить, курить, обижать слабых, буду защищать и любить. Буду как мама! Это была моя клятва. Которую я повторял раз за разом, дрожа от боли, страха, бессилия.
Я не плакал. Даже тогда не плакал. И потом, в больницах, когда оставался один. А мама — она всё терпела. И находила силы заботиться обо мне.
Теперь, оглядываясь назад, я часто думаю об этом: мама, родная моя, сколько же тебе пришлось вынести в этой жизни! Ну почему так бывает, что самое трудное выпадает на долю самых добрых, удивительных людей?.. Она была красивая. Необыкновенно красивая. Разглядывая старые фотографии, я не раз ловил себя на мысли: неужели это — моя мама? Сколько у неё было кавалеров! Сколько писем, фотографий ей присылали! А она — со всеми мила, со всеми — равнодушна. Не по гордости, не по холодности. Просто — сердце не отзывалось. Она словно боялась. Словно предчувствовала нелёгкую долю.
Так и вышло: несчастливый брак, нелюбимый муж, больной ребёнок…
У неё не было счастья в жизни. Вся её жизнь была — сплошные тяготы и заботы, всю жизнь она за кем-то ухаживала. В детстве, в нелёгкие послевоенные годы — за младшими сёстрами и братьями в большой, многодетной семье, где она была старшей. Потом — за ребёнком, который родился больным, парализованным. Потом — за престарелыми и также уже больными родителями… Несмотря на все тяготы, она сохранила удивительное обаяние и могла бы ещё выйти замуж. Но после папы — она уже не могла смотреть на других. Намаявшись семь лет, она всё же рассталась с ним. И с этого момента все свои силы отдавала мне. Она надеялась поставить меня на ноги и делала всё возможное для этого. Дороги, чужие города, больницы, доктора. Снова дороги, снова больницы…
В те детские годы они стали для меня почти вторым домом, эти больницы. Но домом — чужим, ненавистным. Потому что я всегда оставался в них один — без друзей, без мамы. Лишь потом, в поликлинике профессора Крылова, где мне делали операции и целый год «ставили на ноги», у меня появились друзья, и мама была со мной. В самые трудные послеоперационные дни она была неотступно со мной. Но тогда она уже была свободна — от папы. А раньше… Сейчас мне кажется, что в те детские годы, когда ещё был папа, меня клали в больницы не столько ради лечения, — никаких результатов уколы и таблетки, разумеется, не приносили, — а большей частью для того, чтобы хотя бы частично отгородить от семейных драм. Но я не знаю, где мне было больнее: дома, когда приходил нетрезвый папа, или в больнице, где я оставался один, абсолютно беспомощный…
Я не плакал, когда уходила мама. Все дети плакали. Я — привык. Привык оставаться один: и дома, когда мама уходила на весь день на работу, и в больнице, когда мама уходила на целые недели. Но к одиночеству и беспомощности, к равнодушию окружающих всё равно привыкнуть было невозможно. Белые стены, белый потолок — это была как тюрьма. Из которой я не мог выйти. Потому что не мог ходить… Возможно, я сам виноват, что был слишком робким и стеснительным. Но я до сих пор помню, как часто не мог заснуть ночами, мучаясь детскими страхами или жаждой, и не решаясь позвать кого-нибудь, попросить принести попить. Из приоткрытой двери в спящую палату лился слабый свет, и я лежал, всматриваясь в него, вслушиваясь в звуки в коридоре и надеясь, что, может быть, кто-нибудь подойдёт, откроет дверь и спросит, почему я не сплю? Но никто не приходил, никто не спрашивал.
Бездушие и безучастность наполняли эти белые стены, в которых монотонно проходили похожие друг на друга дни. Меня кормили, наспех пихая в рот кашу или суп, которыми я то и дело давился. Потом я давился горькими, противными таблетками. Сжимался и вздрагивал всем телом от болезненных уколов. И целыми днями лежал на кровати, глядя в потолок. Со мной никто не играл, не общался. Детишки предпочитали бегать по коридорам и играть в игровых комнатах, полных игрушек. А я всегда оставался в палате. Даже когда проводили дезинфекцию, включая ультрафиолетовую лампу, убивающую микробов. В палате нельзя было находиться, когда включали эту лампу-убийцу. Но меня оставляли, накрыв с головой одеялом и строго веля не высовываться. Неужели они и правда думали, что все 10 минут я буду смирно лежать под душным одеялом? Смешно! Я не прятался. И даже не боялся. Не мигая, я смотрел, словно загипнотизированный, на бледно-голубоватый свет, и мне было всё равно, убьёт он меня или нет. Потому что никакой радости у меня в жизни не было. Особенно — в этих больницах.
Правда, именно больница однажды подарила мне необыкновенные, удивительные минуты, которые я не мог забыть много лет. Вернее, не больница, нет. А девочка, которая была там… Когда меня положили в очередной раз, в палате была только одна она. Похожая на Мальвину из «Приключения Буратино» — почему-то мне так показалось. Хотя, та Мальвина была с голубыми волосами и холодным сердцем. А эта… «Мальчик, как тебя зовут?» Я вздрогнул от неожиданности. Сухо ответил, думая, что на этом она отстанет. Но она — нет, не отстала. Напротив! Подошла и села прямо на мою кровать. Снова спрашивала о чём-то, рассказывала. И всё смотрела, прямо в глаза. Не с жалостью смотрела, нет. А с каким-то — участием. И вдруг… она улыбнулась и дотронулась до меня, погладила. И со мною что-то случилось: мне показалось, что я сейчас задохнусь. Или заплачу. Непонятно отчего…
Наше знакомство длилось совсем недолго: в тот же день её выписали и увезли домой. А я — очень долго не мог забыть эту девочку. Её улыбку. Прикосновение. И не мог понять, что со мной происходит, что за странное, сладко-щемящее обжигающее чувство так ощутимо и больно разрастается в груди при этих воспоминаниях… Сколько мне тогда было? Лет шесть. А ей — чуть больше. Семь?
Опять эта цифра 7! Как странно. Но похоже, история повторяется: спустя много лет другая семилетняя девочка снова улыбнётся мне и также — дотронется, погладит. Потянется всем своим маленьким сердцем. И снова со мной что-то случится...
— Дядя Серёжа, смотрите, а Луна — убежала! Но мы же не двигали телескоп!
Я взглянул в окуляр. Ярко-жёлтый, усеянный кратерами и тёмными пятнами шарик Луны, совсем недавно сиявший прямо посередине, теперь ушёл за край и угадывался лишь по свечению.
— Да, мы не двигали телескоп, Ника. Но он всё равно движется. Вместе с нами. Вместе с домом, городом и всей Землёй. Потому что Земля — не стоит на месте, она — вращается.
— И мы тоже вращаемся?
— Да, как на огромной карусели.
— А совсем незаметно!
— Потому что Земля вращается не спеша, один оборот за целые сутки. И по мере её вращения потихоньку поворачивается весь свод неба, встаёт и заходит Солнце, Луна, звёзды. А ещё Земля вращается вокруг Солнца, обходя его в течение года. Из-за этого меняются времена года: вслед за зимой приходит весна, сменяющаяся летом, затем — осень, и снова зима. И так — год от года, круг за кругом. И другие большие планеты также вращаются вокруг Солнца.
— Марс, Венера, Сатурн, Юпитер, да? Я читала в детском журнале «Умняша»!
— А ещё Меркурий, он самый близкий к Солнцу и поэтому самый быстрый. Уран, Нептун и Плутон — они самые далёкие. Всего девять больших планет вращаются вокруг Солнца, вместе с нашей Матушкой-Землёй.
— А какая из них самая большая? Сатурн?
— Сатурн — огромная планета, гигант, но всё же меньше Юпитера. Самый большой — Юпитер: он в 11 раз больше Земли! Кстати, вон он: видишь, над домом блестит, самый яркий среди звёзд.
— И это — Юпитер, самый большой? Он же совсем крохотный!
— Потому что он далеко, намного дальше Луны, и даже дальше Солнца…
— Дядя Серёжа, а давайте полетим на Юпитер? — неожиданно предложила Ника. Словно хотела убедиться, в самом ли деле он такой большой. Я растерянно улыбнулся.
— Как же мы полетим, Ника? У нас ведь нет космического корабля.
— А мы представим, что есть. Это же очень просто! Смотрите!
Ника вскочила на кровать, на которой мы сидели, встала, вытянув руки по швам, словно ракета, готовая к запуску. Начала звонкий отсчёт:
— Три, два, один. Пуск!
И сделала резкое движение вперёд к раскрытым створкам балконной рамы, словно и правда хотела улететь. Я машинально подхватил её, обхватив руками. Она обернулась, взглянула прямо в глаза.
— Дядя Серёжа, вы что, испугались, что я правда улечу? Не бойтесь, я никуда не полечу… без вас.
И вдруг — обняла, обвила тоненькими ручонками, прижалась. Совсем как тогда, в первый раз. И также, как тогда, я осторожно обнял её…
* * *
Господи, что же делает со мной этот ребёнок! Чем она так тронула моё сердце? Зачем, зачем всё это: эта неожиданная привязанность, эти новые для меня чувства? Я не хотел этого. Старался не замечать, как она радуется мне при каждой встрече, как тянется ко мне. Старался не обращать внимания на собственные чувства: как мне хочется погладить её, обнять, играть с ней, заботиться, дарить всё самое лучшее. Зачем? Я понимал, что она ищет папу, а я — ну, какой из меня папа, я сам-то еле хожу. К тому же, у меня есть Алёнка. Пусть у нас всё непросто, пусть она раз за разом уезжает на долгие месяцы домой, в свой Владимир, а приезжает лишь на короткие недели. Но она мне всё равно дорога, я всё равно жду её и на что-то надеюсь. А тут — Ника!
Нет, я не готов был к такому повороту. И защищался, как мог. Старался не играть и даже не разговаривать с Никой, даже не смотреть на неё, быть сухим, равнодушным, холодным. И тем не менее, я не смог оттолкнуть её, не смог обмануть — ни её, ни себя... Почему она так потянулась ко мне, что нашла во мне? Не знаю. Но её детская искренность, непосредственность, её радость, с которой она каждый раз встречала меня («Дядя Серёжа! Дядя Серёжа!» — этот звонкий голосок мне уже начал сниться по ночам), за считанные недели разрушили всю мою защиту. Я не устоял, оказался беззащитным перед искренностью ребёнка.
Когда это случилось, как? Может, в тот миг, когда она впервые обняла меня и призналась, что скучает?..
В тот день они ненадолго зашли ко мне с Верой. И вскоре собирались уже уходить. Но Ника словно не слышала маминых слов: «Дочка, идём, нам пора», уткнулась в компьютер. А когда Вера пошла одеваться, и мы с Никой остались в комнате одни (позже я понял, что она как раз этого ждала), она подошла ко мне — непривычно тихая, робкая какая-то. Стоит, опустив голову, теребит пуговичку. Я даже испугался.
— Ника, ты что? Хочешь мне сказать что-то?
— Да.
— Ника, я слушаю. Что ты хочешь сказать?
Немного помолчав, она, не поднимая головы и также теребя пуговичку, тихо произнесла:
— Дядя Серёжа, если мы уедем обратно в Хабаровск, я буду… очень-очень скучать по вам.
И тут же, не дав мне опомниться, осмыслить услышанное, она порывисто — словно прорываясь сквозь какую-то невидимую преграду, — приблизилась вплотную, обвила меня ручонками, прижалась.
Я растерялся. Оторопел. Задохнулся! Хотел что-то ответить, но не смог — язык отказался меня слушаться. И тогда я просто обнял её — робко, осторожно. И вдруг почувствовал, как по щеке скатилась непрошенная слеза…
А может, всё случилось ещё раньше, когда я впервые посадил её на колени? В тесном микроавтобусе, возвращаясь из МЦИ…
В нашем Молодёжном центре инвалидов уже знали, что из далёкого дальневосточного города ко мне приехала одноклассница с дочкой. Именно в Центре им помогли потом подыскать небольшую квартирку, которую сняла Вера. А я предложил ей вступить в организацию — всё-таки, хоть какая-то поддержка ей будет на новом месте. И на ближайшем собрании мы поехали вместе в МЦИ: знакомиться.
В Центре Нику заметили. Удивлялись, оглядывались: чья это девочка, что за прелесть? Она и правда была прелесть. В который раз, наблюдая за ней, я удивлялся: сколько же в ней непосредственности, искренности! Где бы она ни появилась, тут же находит себе друзей, даже в самом незнакомом, непривычном окружении. Сразу становится как маленькое солнышко: центром лучистой радости, смеха, игр. Вот и здесь — её ничуть не смутили костыли и коляски. Смотрю — уже и с одним познакомилась, и с другим. Подойдёт к Даше — и так просто: «А хотите, я вас покатаю?» И вот она уже катает обрадованную Дашу, щебечет с ней о чём-то. Свозила в коридор, на улицу. И назад — ко мне: «Дядя Серёжа!» Сядет рядышком, прильнёт к боку. Но долго она сидеть не может — «моторчик»! Вновь побежит куда-то, покатает кого-то. Не успею оглянуться — и вот уже снова она рядышком, снова прижимается. Люди огладываются, смотрят, улыбаются. Чувствую себя почему-то ужасно неловко. И в то же время — каждый раз замирает сердце, когда это маленькое солнышко возвращается ко мне, как в домик, доверчиво прижимаясь.
— Дядя Серёжа…
— Что, Ника?
— А вы ведь вовсе не такой серьёзный, каким хотите казаться. Вы умный, добрый и… такой хороший!
Вот так неожиданно она может огорошить!
— Откуда же ты всё знаешь, Ника? — улыбнулся я. И вновь почувствовал, как сильно мне хочется погладить её, посадить на колени, обнять. Но я бы не решился на это, наверное, даже наедине. Может, поэтому сама реальность — подтолкнула, помогла?
На обратном пути микроавтобус, на котором нас развозили, оказался полон. И мне предложили посадить Нику себе на колени. Я даже не успел понять, почему именно — мне? Но возразить — тоже не успел. Или не смог. И вот Ника — у меня на коленях. Автобус тронулся, и мне пришлось обнять её, чтобы не упала. А она — словно лишь этого и ждала всю жизнь! Так трогательно прильнула… Сижу, боясь шелохнуться. В автобусе — девушки, новенькие. Смотрят на меня и так странно улыбаются, что мне хочется провалиться сквозь землю! И в тоже время — хочется, чтобы этот миг никогда не кончался… Так и просидел всю дорогу, обмирая: от неловкости, смущения, от нахлынувшей волны ласковости и нежности к маленькому человечку, сидящему у меня на коленях, трогательно прильнув к груди. А после долго не мог заснуть в ту ночь, вновь и вновь вспоминая, и переживая эти мгновения…
Вспоминались мне тогда и другие, более грустные и тревожные мгновения. Но даже их Ника умела оборачивать в радость.
В тот вечер Вера позвонила мне:
— Серёж, можно мы к тебе приедем?
Я не стал расспрашивать, но по голосу и позднему времени понял: что-то случилось. И не ошибся. Оказалось, что Веру попросили освободить комнату, которую она с трудом сняла всего лишь неделю назад. Грубо выпроводили больную одинокую женщину с ребёнком, даже не вернув деньги, заплаченные на месяц вперёд! Вера оказалась на улице, одна, с ребёнком, в чужом городе. Ну, куда ей было податься?
— Ничего, не переживай, придумаем что-нибудь, — пытался я успокоить Веру, прокручивая в голове различные варианты: объявления в Интернете, знакомые, МЦИ… Но Вера переживала, была крайне расстроена. И то ли от этого, то ли ещё по какой-то причине, у неё вдруг резко подскочила температура.
И вот, за окнами — уже ночь, дома — никого, сестрёнка ещё днём уехала в деревню. А у меня — семилетний ребёнок и растерянная, смущённая Вера, температура у которой стремительно поднималась. 38. 39. 39,5! Надо что-то делать!
Я решил вызвать скорую.
Всё это было до боли знакомо. Сколько бессонных, мучительных ночей ещё совсем недавно мне пришлось пережить, сколько раз вызывали неотложку в глупой, неоправданной надежде, — для мамы! И каждый раз врачи лишь разводили руками, посмотрев в медицинскую карту: «Ну, что же вы хотите от нас, с таким диагнозом…» И мы вновь оставались наедине со своей бедой и болью, без всякой надежды.
Но теперь была другая ситуация: я был один, но всё же мог что-то сделать. Я был в ответе за Нику и Веру…
Скорую ждали почти час. А дождавшись, были удивлены диагнозом: ангина! Я никогда не думал, что при ангине бывает такая высокая температура. И был расстроен: у меня в доме нужных лекарств не оказалось. Что делать? Ждать возвращения сестры? Но она приедет лишь послезавтра. Андрей — тоже в деревне. Беспокоить родственников — не хочется. Остаётся лишь одно: самому сходить утром в аптеку, она недалеко. Да, я этого ни разу в жизни ещё не делал. Но ведь всё когда-нибудь приходится делать впервые. Вот только, поймут ли меня, с моей речью? Но и это можно решить, записав названия нужных лекарств на бумажку. А если со мной пойдёт ещё и Ника…
Наутро, когда я собрался в аптеку, Вера предложила то же самое: пусть со мной пойдёт Ника. Я немного замялся. Будет ли она меня слушаться? Не убежит ли куда-нибудь? Я никогда один не ходил за покупками, а вдвоём с ребёнком — тем более.
Но Ника — она так обрадовалась: «Мы пойдём с дядей Серёжей! Ура!», что все мои опасения вмиг рассеялись, и я тоже почему-то обрадовался.
Осень встречала нас тёплыми солнечными объятьями. Она уже накладывала свои отпечатки первой желтизной в листве, но солнце светило совсем по-летнему, и лёгкий ветерок приятно щекотал под футболкой, отгоняя жару. А рядом бегала и кружилась, как волчок, маленькая стремительная Ника.
— Дядя Серёжа, смотрите, муравьишки! А вы выдели красных муравьёв? Они такие кусачие! Но я их не боюсь! Дядя Серёжа…
И было в её глазах столько радости, столько доверчивости, словно рядом с ней шёл вовсе не инвалид на костылях, а большой, сильный и добрый человек, с которым можно ничего не бояться, который всегда и защитит, и приласкает. И мне самому уже начинало казаться, что мои костыли — это просто какое-то недоразумение! Что стоит лишь поддаться такой же искренней детской радости, веры в чудеса — и костыли мне будут совершенно не нужны! Я отброшу их, подхвачу Нику на руки, подниму к небу, закружу её — и весь мир зальётся её счастливым звонким смехом…
Наверное, Ника тоже мечтала об этом. В её глазах не всегда была радость. Часто в них отражалась — какая-то неустроенность, беспокойность, задумчивость, несвойственная её возрасту. Словно незримая тяжесть лежала на её маленьких плечах. Или тоска. Тоска — по домашнему уюту, по семье. По папе.
Ника не только никогда не видела папу. Бабушка с дедушкой тоже рано покинули её. Та же страшная болезнь, что совсем недавно забрала мою маму, сделала и Веру сиротой.
Жизнь с ней обошлась неласково, слишком неласково. Смерть родителей, измена и уход мужа… Господи, как она пережила всё это? Как растила дочку? Вера рассказывала, что ей помогали только школьные подруги. Те самые наши интернатские девчонки, которые и сами-то были многого лишены: и здоровья, и зачастую — семьи. Интернат стал для многих из нас в те школьные годы семьёй, породнил нас. Но интернат не был матерью. Мог и недокормить, и недогреть.
Мы с Верой не просто учились вместе, в одном классе. Мы — жили и росли вместе, в одном доме. Детском доме. Только меня на каникулы всегда забирала мама, а её — нет. Не всё благополучно было у неё дома, в далёком дальневосточном городе. Лишь после выпускных экзаменов за ней впервые приехал брат, о котором мы до этого ничего не слышали. И увёз Веру домой. Но радости и благополучия от этого в её жизни не прибавилось.
И в жизни маленькой Ники радости тоже было мало. С ранних лет её коснулись и нужда, и боль, с ранних лет она была единственной опорой маме. И возможно, единственными людьми, кто порой мог приласкать её, были вовсе не родные, а выросшие дет-домовские девочки, сами с детских лет лишённые и ласки, и здоровья, передвигающиеся на костылях и инвалидных колясках.
Не оттого ли в глазах Ники сквозь детскую беспечность и непосредственность то и дело прорывалось что-то недетское? Как пронзительны были порой эти глаза, как ищущи! А порой — просто грустные. А порой — полные какой-то серьёзности и участливости. Как в тот раз, когда, прочитав в нашем журнале стихотворение «Инвалиды всех стран, умирайте…», она подошла тихонько ко мне и сказала:
— Дядя Серёжа, порвите это на мелкие кусочки и не пишите такое больше никогда.
— Ника, хорошая моя, это же не я написал.
— Всё равно, не печатайте больше такие строчки.
И посмотрела на меня как-то странно. Погладила.
— Дядя Серёжа, мне так не хочется оставлять вас одного. Чтобы вы не грустили.
Я растерялся и не знал, что ответить…
Конечно, я грустил. Ведь прошла лишь пара месяцев, как похоронили маму. Но я старался не показывать этого. Старался улыбаться при гостях. Особенно при Нике. Понимала ли она это? Или просто чувствовала каким-то своим обострённым детским восприятием? Как тогда, в храме, где она впервые оказалась, и ничего не зная об иконах, сразу же потянулась к образу целителя Пантелеймона. Стоит возле него подолгу, рассматривает заворожённо. И словно шепчет что-то… Одна из прихожанок подошла к ней, спросила:
— Ты знаешь, кто на этой иконе?
Ника отрицательно покачала головой.
— А о чём ты его просишь?
— Чтобы мама была здоровой…
Что это такое? Случайность? Совпадение? Интуиция?
Я не знаю!
Не знаю, что мне делать теперь со всем этим. Как я расскажу об этом Алёне? Как мне быть с Никой? Я чувствую, что она всё больше входит в моё сердце, я постоянно думаю о ней. Но разве я могу быть ей папой? А если мне придётся уехать к Алёне, что будет с Никой? Она ведь даже это чувствует, и уже переживает! Я до сих пор не могу отойти от позавчерашнего звонка Веры:
— Серёж, тут Ника разревелась. Никак не может успокоиться. Говорит, что тебя увезёт тётя Алёна, и мы никогда тебя больше не увидим. Представляешь...
Господи, да что же это? Что вообще происходит в моей жизни? Алёна, Вера, Ника. Мама. Всё закружилось в каком-то сумасшедшем вихре событий, всё переплелось, запуталось! Словно незримая гигантская пружина судьбы, мучительно растягивавшаяся последние два года, с уходом мамы вдруг резко сорвалась, ударила с размаху по моей жизни, закрутила бешено её тайные шестерёнки — и всё начало резко ломаться, меняться, требовать новых решений!
Сначала сломалась моя любимая электроколяска — буквально накануне того дня, в который я последний раз видел маму живой. Следом сломался мой компьютер — и это в момент, когда он мне был особенно нужен! Сестрёнка, которая последние два года была постоянно с нами, уехала в отпуск. Алёна — даже она уехала, её отпуск был совсем недолог. Я остался без денег, — в сбербанке мне отказались выдать мои же деньги с моей же сберкнижки в моём присутствии, потребовали доверенность на другое лицо!..
Казалось, всё ломается, всё рушится в моей жизни. Казалось, я остался совсем один. Но опускать руки и лежать, весь день пялясь в потолок, я не имел права. Я обещал маме, что этого — не будет. Тем более, что я должен верстать журнал. Журнал, который ждут по всей стране люди, многие из которых вообще обездвижены, многим из которых, возможно, даже хуже чем мне. Значит, надо что-то делать! Надо решать проблемы, чинить сломавшееся, работать и жить. Учиться жить и строить свою жизнь — словно заново. Без мамы.
И я — жил. Чинил. Работал. Искал решения. Я был не один, мне помогали. Друзья, родственники.
А через три недели мне позвонила Вера. Я знал, что она была в это время в Пензе — ещё весной, общаясь в аське, она рассказывала о своих планах поехать этим летом в наш детский дом, звала меня с собой. Мне очень хотелось побывать там, где прошли лучшие годы моего детства. Но на тот момент я, конечно же, не мог, мама была уже совсем слаба. Я лишь высказал мысль, что, может, получится как-нибудь встретиться, раз уж Вера из такой дали собирается в наши Поволжские края, это же недалеко от меня, куда ближе, чем Хабаровск. Я был бы рад встрече, ведь сколько лет не виделись, с выпускного! Но получится ли — я не знал. Боль за маму закрывала в моём сердце все надежды, желания и радости. Будущее казалось тёмным и неопределённым…
Но вот, мамы уже нет. А Вера с дочкой могли заехать в гости. И я почему-то обрадовался этому. Почему-то ждал. Не зная, что меня ждёт! Не зная, что Вера собирается переехать из Хабаровска, где ей было сложно жить, ближе к центру, к школьным друзьям, в Пензу или сюда, в наш город — родной город её отца…
И приехала не одна. С ней была маленькая Ника, с радостной и немного смущённой улыбкой:
— Дядя Серёжа, здравствуйте…
Мог ли я подумать тогда, что так привяжусь к этому ребёнку? Что вообще могу так привязаться к ребёнку? Возможно, и не смог бы, случись всё иначе, в другое время. Но всё случилось именно так, именно в это время.
Случайно ли всё это? Мне не верится в случайности. Тем более — такие! С самого приезда Веры и Ники у меня было странное и острое ощущение, что их привела ко мне… моя мама. Она всегда беспокоилась обо мне, переживала за наши отношения с Алёной. Даже будучи смертельно больной, мама не переставала думать о моём будущем, боясь, что Алёна не сможет бросить ради меня свой город, родителей, работу, подруг, не сможет переехать ко мне; ей всегда хотелось найти мне… сироту. И вот, Алёна уехала. Сразу после ухода мамы. А приехала — одноклассница из безумной дали. Брошенная, одинокая. Сирота!.. Что это? Не мамина ли забота обо мне? Может, даже уйдя из земной жизни, она не перестаёт участвовать в моей судьбе?
Мамочка, милая моя, родная! Я до сих пор не могу поверить, что её нет. Что никогда больше не увижу её. Просто не умещается это в голове. Кажется, что она всего лишь ушла куда-то, уехала. Как в детстве, когда я оставался в больницах, в интернате. Но тогда я знал, что мама — есть, она дома, и она непременно приедет. Ей можно было написать письмо, позвонить. Она всегда приезжала. Всегда приходила ко мне. Теперь же — некуда звонить, писать. Больше она не придёт. Никогда! И это — самое страшное: «никогда».
Я стараюсь не думать об этом. Стараюсь отгонять все грустные мысли и воспоминания. Но в то же время понимаю, что никогда не смогу избавиться от тоски по маме, от желания видеть и слышать её (Господи, порой так хочется хотя бы голос её услышать, хотя бы на минуточку!). Не смогу забыть всего, что было.
Я всегда знал, что это случится: однажды её не станет. Я даже знал, как именно это случится. Вернее, предчувствовал, наверное. Помню, я с раннего детства жутко боялся слова «рак», услышав где-то про такую болезнь (хоть и не понимал тогда, что это такое). Но больше всего с раннего детства я боялся, что мама вдруг утром не проснётся. Я проснусь, а она — нет. И всегда, просыпаясь раньше её, я тревожно вслушивался в её дыхание. Успокаивался, лишь убедившись: мама дышит. Пока мама дышит, пока она живёт — всё хорошо.
Но в то последнее утро я проснулся слишком поздно…
Два года, два мучительных года предшествовали этому утру. Я не знал, что это так мучительно: день ото дня видеть, как на твоих глазах угасает и умирает самый дорогой человек. И не иметь никакой возможности помочь ему! И не иметь никакой надежды!
Хотя, поначалу казалось, что надежда есть. Нам не говорили точный диагноз. Травили химией, делали операции. Сначала — одну. После неё мама вернулась — как из концлагеря! Но тогда ещё была надежда. Казалось, была. И мама боролась. Боролась с отчаяньем, с бессилием и болью. Со смертью! Боролась — ради меня... Однако через год — рецидив. Новая мучительная операция. И только тогда нам открылось, что всё — тщетно. С самого начала было тщетно! Кажется, такова современная медицинская этика: скрывать смертельную правду до последнего, оставляя пациенту надежду, а медикам — свободу для хирургических экспериментов, чтобы раз за разом полосовать живую плоть и без того исстрадавшегося человека…
В те дни я часто вспоминал поликлинику профессора Крылова (ту самую, откуда мы сбегали с Димкой), вспоминал свои операции.
Поначалу я ждал их, как нечто самое чудесное в своей жизни. Ждал, потому что они должны были помочь мне овладеть своими ногами. Ведь профессор сказал, что я буду ходить! Сначала на костылях. А потом, если очень постараюсь, возможно, даже с палочкой. И я почему-то сразу поверил этому профессору со странностью в походке и во взгляде (как потом мы узнали, у него была та же болезнь, что и у меня: ДЦП, только в лёгкой форме). Поверил и ждал операций — как чуда! Я даже не боялся их.
До того момента, когда оказался на операционном столе. Только тогда я впервые понял, как это страшно! Наверное, мне никогда больше не было так страшно, как в тот, первый раз.
В операционной было светло и холодно (на дворе — ноябрь), меня полностью раздели. Я лежал на узком белом столе, дрожа всем телом, и с ужасом смотрел, как мне привязывают к столу руки и ноги, а рядом готовят жуткие сверкающие инструменты… Дальше — всё как во сне. Мне казалось, что мои ноги сверлят, режут, разрывают! Молоденькая медсестра — совсем девчонка — стоит у изголовья и гладит меня, гладит, что-то говорит — я не слышу. Не понимаю, что происходит, где сон, а где — явь.
Позже выяснилось, что оперировали меня не под общей, а под местной анестезией, — иначе было сложно добраться до нужных сухожилий. Говорили, что я измучился сам и измучил хирургов (когда сняли гипсы, все ноги у меня оказались в шрамах: я дёргался, даже крепко привязанный, и хирургические инструменты то и дело впивались не туда, куда нужно). Господи, а каково было моей маме, стоявшей всё время у дверей операционной и слышавшей, как я плачу и кричу! Первая седина тронула её волосы именно тогда…
Конечно, следующие операции мне уже проводили под общим наркозом, и я их не помню. Но легче от этого мне было ненамного. После третьего дня, когда уже нельзя было дальше колоть сильнодействующие препараты, у меня каждый раз начинались сильные судороги: мышцы всего тела сводило от напряжения, операционные швы грозили в любой момент разойтись, я не мог расслабиться ни на миг, не мог заснуть! Не помогали ни димедрол, ни другие стандартные средства. И лишь мама, моя милая мама, дни и ночи проводившая у моей постели, могла справиться с этим, могла мне помочь. Своей безмерной любовью и терпеливой заботой. Своими сказками!
Не знаю, как ей это пришло в голову — рассказывать мне в такой момент сказки, и откуда она их вообще вспомнила. Но они были незнакомые, необычные, удивительные — наверное, от бабушки. От них веяло древностью и народными преданиями, доходящими порой до леденящей душу мистичности. Но как ни странно, именно эти сказки меня спасали. Я слушал их заворожённо, с замиранием — и расслаблялся, забывал о боли. Судороги уходили. И я засыпал, зачастую недослушав очередную сказку…
Если бы не мама, я бы не смог пережить те послеоперационные дни. Не смог бы встать на ноги. Не смог бы очень многого в жизни. Она всегда была рядом, в самые тяжёлые моменты.
И вот, теперь она сама оказалась в бездне тяжёлых испытаний. Сама — на страшном операционном столе. А я — не мог быть рядом, не мог ничем помочь. Ничем!.. Как это горько было осознавать, как больно. «Господи, за что Ты посылаешь ей такое? — терзался я порой горькими раздумьями. — Она и так всю жизнь лишь страдала, никакой радости не видела. И теперь — неужели таким мучительным будет конец её жизни? Какое в этом может быть благо, какая мудрость, какой смысл? Или так проявляется Твоя непостижимая любовь? Так Ты призываешь к Себе избранных?..»
Мама не роптала. Ни слова упрёка в чей-либо адрес я не услышал от неё за все два года. Как она терпела — я не знаю. Но она не принимала даже обезболивающие, до самого последнего дня. Лишь жалела порой, что как-то глупо прошла жизнь. Жалела меня: «как же ты дальше будешь, один?» Никогда не забуду её слова, незадолго до последней госпитализации: «Серёженька, сыночек, родной мой, прости меня. За то, что не могу быть больше с тобой…» Ошеломлённый, я не знал, что сказать. Я уже устал — от постоянной боли в сердце, от переживаний. И сердце — оно будто начало леденеть, неметь от какой-то странной заморозки. Я жил — словно со льдинкой в сердце. И молил лишь об одном: чтобы сократились её страдания.
Незадолго до последней госпитализации приехала Алёна. И была потрясена, увидев маму в таком плачевном состоянии. Я ведь не раскрывал ей всех подробностей. Никому не хотел рассказывать… Когда маму после нового приступа в очередной раз увезла скорая, мы через несколько дней поехали с Алёной в наш Кафедральный собор. Где я, как заведённый, повторял лишь одно: «Господи, помилуй мою маму, облегчи её страдания…»
На следующий день ей резко стало хуже. Спешно выписали — к нашему изумлению (мы тогда ещё не поняли, почему). Привезли её тётушки. Я увидел — и чуть не расплакался: за неполную неделю мама чудовищно исхудала, сильнее, чем после первой операции. Вид — как из Бухенвальда. Но я понимал, что надо держать себя в руках, хотя бы при ней. Ведь мама — она тоже держалась, даже в этот день. Сама ходила, обслуживала себя, до последнего. И это нас всех обмануло! Никто не думал, что конец — так близок. Тётушки помогли ей помыться, — и ушли. Вечером позвонили: нужно ли прийти ночевать? Но мама сказала, что сегодня не надо; может быть, завтра… Завтра! Я до сих пор не знаю, верила ли она сама, что для неё ещё будет это «завтра», или наоборот — чувствовала надвигающееся и не хотела никого беспокоить, хотела — одна? Скорее — чувствовала. С её-то феноменальной интуицией. А вот как я ничего не чувствовал? Хотя, может, я тоже почувствовал. Я помню, как подумал (или сказал Алёне): на её лице видна тень смерти, она близко. Но — не поверил. Не хотел верить. Лишь хотел — мучительно хотел! — поговорить с ней. Словно — в последний раз (хотя в голове такой мысли не было). Только она была слишком слаба. И я просто сидел рядом, держа её за руку, ни о чём не спрашивая. А на сердце — холод и пустота.
Поздно вечером мне захотелось помыться (странно: я привык мыться в субботу, а тут вдруг захотелось именно сейчас, в пятницу). Потом, как обычно, пошёл пить чай. Мама тоже пришла на кухню (сама!), попросила чай. Потом захотела поесть немного бульона. Я обрадовался: хороший признак, завтра ей должно стать чуть лучше (так уже было не раз). Потом легли спать. Но заснуть, как обычно, я не мог. Лежал, прислушиваясь к каждому звуку в маминой комнате. Иногда вставал, спрашивал, не нужно ли чего. Принёс тёплой воды. Хотел посидеть с ней. Но мама сказала: «Серёженька, не беспокойся, у меня всё есть. Иди, поспи немного». Спокойно так сказала. И я — почему-то успокоился. Лёг в своей комнате и быстро заснул.
Странно заснул, удивительно крепко. Будто отключился. Но в то же время — мне снились сны. Тоже какие-то странные, будто даже не мои вовсе. Я видел маму, лежащую посредине нашей залы на какой-то непонятной красной кушетке. Вокруг неё — много людей. И с каждым она… прощается. Только Алёна никак не может войти, стоит нерешительно у двери. А мама всё ждёт её, именно её…
Потом всё так и было, в следующие 3 дня. А в то утро мы с Алёной проснулись — удивительно поздно. Время уже — почти полдень! И тишина. Неестественная тишина. Пугающая! С холодеющей душой я встал, вышел из комнаты. И сразу увидел маму, лежащую в зале. Рука её была неестественно откинута… Я всё понял, сразу.
На душе — словно всё онемело. Ни страха, ни боли, ни горечи. Я вошёл к маме. Сел подле неё на колени. Взял её за руку. Тёплая. Она была совсем как живая. Лицо — удивительно спокойное, умиротворённое, почти улыбающееся; глаза — приоткрыты… «Мамочка, родная моя, так и не поговорили мы с тобой…» — толкнулось в голове. И всё затуманилось. По лицу, словно капли благодатного дождя после долгой засухи, текли слёзы. Впервые за все эти два мучительных года, я плакал. Сидел на коленях, целовал её руку, и плакал…
* * *
Тёмный покров прохладной сентябрьской ночи всё плотнее окутывал спящий город. Уличные фонари тут и там начинали гаснуть, далёкие звуки — затихать. Туманная пелена, застилавшая небо, почти рассеялась. И в густеющей чёрной вышине всё ярче разгорались звёзды, всё большим числом рассыпаясь по куполу небес. Даже самые крохотные из них начинали различаться — словно просыпаясь от сна и удивлённо моргая глазёнками. Но если поднять на них любопытное око даже небольшого телескопа, то можно было бы увидеть в этот миг ещё более многочисленные звёздные россыпи.
Только мне вовсе не хотелось больше тревожить телескоп. Я сидел, не решаясь шевельнуться, и слушал, как рядышком, под боком, тепло дышит маленькая Ника. Трогательно прижавшись — совсем как тогда, в автобусе. Непривычно притихшая.
Наверное, спать хочет, — подумал я. Утомил я ребёнка своим астрономическим просвещением. Надо пойти, расстелить ей постель, уложить. А я, может, ещё посижу. Совсем не хочется спать.
Я уже хотел сказать об этом Нике. Но она вдруг взяла меня за руку, заглянула в глаза долгим немигающим взглядом.
— Дядя Серёжа…
— Что, Ника?
— Хорошо так сидеть, правда?
Я улыбнулся.
— Да, хорошо. Смотри, звёзды становятся всё ярче, их всё больше. В следующий раз я познакомлю тебя с созвездиями. Знаешь, есть даже такое созвездие: «Волосы Вероники»; в телескоп оно очень красивое.
— Волосы Вероники… — то ли повторила, то ли спросила Ника. — Разве такое бывает?
— Много чего удивительного бывает на свете.
— Дядя Серёжа…
— Что, Ника?
— Это мой самый лучший день… Только он скоро закончится.
И уткнувшись лицом мне в грудь, чуть слышно добавила горячим шёпотом:
— Дядя Серёжа, я хочу быть с вами. Всегда.
Ах, Ника! Маленькая моя, радость моя, солнышко… Если бы ты знала, как я хочу такую дочурку, как ты! Но Господи, как же мне быть? Ведь я не могу жить с вами, не могу бросить Алёну. Но и тебя я бросить теперь тоже не могу. А как быть с Верой? Ведь я ей тоже нужен, я вижу это. Вижу, как она смотрит на меня. И теперь догадываюсь, что осталась она в нашем городе в том числе и из-за меня… Как же быть теперь со всем этим, что делать?
А может, зря я терзаюсь всеми этими вопросами? Может, всё не так уж и сложно, а наоборот: удивительно и чудесно? Просто нужно доверять жизни, доверять тем невидимым Светлым силам, что ведут нас по ней, — и жизнь сама подскажет в дальнейшем нужные решения? Может быть, важно не то, что будет, а то, что происходит сейчас? И может, не так уж важно, в какую форму выльются наши отношения, будет ли у меня семья, ребёнок. Важнее то, что мы вынесем из этих отношений, чему научимся, что переживём, прочувствуем и обретём, а затем сохраним и понесём дальше — в своей душе?
— Ника, хорошая моя. Ты теперь навсегда — в моём сердце. И жить вы теперь будете рядом. Мы будем дружить с тобой, будем часто встречаться, общаться, гулять вместе, играть. Впереди у нас ещё много-много таких же чудесных дней. Всё будет хорошо. Вот увидишь.
Она подняла глаза, и в них сверкнули слезинки.
— Правда?
Я обнял её крепче, погладил по волосам. Она вновь прижалась.
— И на звёзды мы ещё посмотрим, да? И на «Волосы Вероники»?
— Ну, конечно же. Всё ещё у нас будет, всё впереди.
— Дядя Серёжа, а где они, эти «Волосы Вероники»?
— Они уже ушли за крышу дома, их не видно сейчас. Но зато сколько других звёзд, посмотри!
— Ой, правда, так много! Сколько же их всего?
— Их бесчисленное множество, Ника. Трудно даже представить себе, сколько их. Они собираются в гигантские острова-облака: Галактики, летящие в бескрайнем океане холодного космического пространства. Каждая звезда — огромное пылающее Солнце, с целой кучей детишек-планет, больших и маленьких. А звёзд таких в каждой Галактике — бесчисленно. А Галактик так много, что не счесть! И всё это называется: Вселенная.
— Вселенная… — задумчиво повторила Ника. — Она такая большая?
— Она непостижимая. Удивительная. Прекрасная. Полная бесчисленных миров, тайн и загадок… Вот только, знаешь, мне кажется, что она — холодная.
— Почему? Во Вселенной очень холодно?
— Вдалеке от звёзд — да. Но дело не только в этом. Мне кажется, в ней нет… душевного тепла. Нет любви, радости, счастья. Это есть только в нас, в наших сердцах. Потому что мы — не звёзды, не планеты, не растения или животные. Мы — живые, разумные, чувствующие, у нас есть бессмертная душа, данная самим Богом! Мы — дети Бога, который выше всей Вселенной. И лишь наше сердце может чувствовать то, что выше и ярче всей Вселенной. Для нас Вселенная — прекрасна, но холодна.
— Как замок Снежной Королевы?
— Точно! — обрадовался я удачному сравнению Ники.
— Значит, где-то там может быть Кай? И нам нужно найти его, чтобы отогреть его сердце?
— Может быть… Когда-нибудь люди непременно полетят к звёздам. И принесут им нечто такое, чего звёзды ещё не ведают… Со временем люди многому научатся, многое достигнут. Но сначала нам нужно научиться жить здесь, на Земле. Жить — по-человечески.
— Как это: по-человечески? Разве мы живём не так?
— Вроде, так. И всё-таки… ломаем, убиваем, приносим горе. Обижаемся и ссоримся, обманываем и предаём. Много чего делаем такого, что не по-человечески. Ну куда нам таким, во Вселенную? Она нас испугается и не пустит к себе. Но это не потому, что люди — плохие. Просто им пока очень нелегко, им многое мешает, многое больно ранит — в самое сердце. И сердце закрывается, замерзает, становится холодным, злым… Непросто уберечь душу от зла, когда вокруг столько боли. Непросто растопить все холодные льдинки в израненном сердце. Ох как непросто! Немало нам ещё придётся испытать, чтобы научиться этому. Но люди всё равно научатся. Научатся жить без зла, даря друг другу лишь радость и счастье. На Земле не будет больше горя, она станет самой прекрасной планетой во Вселенной, колыбелью любви. А потом люди полетят к далёким звёздам… Ты бы хотела полететь к звёздам?
— Да. Они такие красивые. И их так много! Когда я вырасту, то стану астрономом и буду изучать их в телескоп, как вы.
Я улыбнулся и хотел сказать, что я вовсе не астроном. Но вместо этого почему-то произнёс:
— Эти звёзды — для тебя, моя маленькая Герда.
Она взглянула на меня снизу вверх. Серьёзно так.
— Дядя Серёжа, мне не нужны звёзды… без вас.
Что я мог ответить? Лишь снова обнял её, прижал к себе. Она доверчива прильнула. Погладила меня. И положила в мою ладонь свою ладошку. Такую маленькую, тёплую, беззащитную. Положила — словно всю себя доверила. И я вдруг почувствовал, как горячо и щемяще-больно мне на сердце! В нём больше не было холода и пустоты. Было лишь огромное, незнакомое чувство, от которого весь мир расплывался в бесчисленных радугах. И звёзды — улыбались.